Ждал её в совершенно пустом кафе посреди солнечного Донецка. Потом курил на улице, сидя на приступочках. Подъехало тонированное такси, и я откуда-то сразу догадался, что она там. Но целую минуту из машины никто не выходил.
Я смотрел на такси: ну, выходи уже, я тебя узнаю, уже узнал, Анна Долгарева. Хотя не видел её ни разу, только стихи читал, удивительные.
Нет — и всё, стоит себе машина, не шелохнётся. Думаю: подвела тебя твоя интуиция, парень.
Отвернулся. Но сам всё равно кошусь на авто: неужели ошибся?
Совсем разуверился уже — и вдруг вышла.
Чуть неуверенная в своих движениях, как человек, вдруг после долгой темноты оказавшийся на свету.
Присела рядом.
Говорит:
— А я сигареты не взяла. Думала, в кафе нельзя.
— В кафе нельзя, — говорю, подавая сигарету.
Она была вся в чёрном. Майка, брюки — чёрные.
Сигарету держит как-то по-женски, не очень естественно.
Большую часть войны Аня провела в Луганске. В Донецке она недели, что ли, две или три — в Луганске сейчас стреляют меньше, а она старается всегда быть там, где стреляют.
Вообще Анна журналистка, поэтому и ездит туда, где бомбёжки. Сто раз уже видела всё это — и всё равно едет.
— Не страшно? — спросил потом.
— Я же приехала сюда умереть.
Она произнесла эти слова так, что почти невозможным образом в них не осталось ни пафоса, ни позы. Но она всё равно улыбнулась, словно извиняясь, что приходится так отвечать.
***
«Друг мой, друг мой
(друже),
когда вы развернёте на нас оружие
(коли запалає сніг),
промедли пару мгновений
(помовч хвилину)
и вспомни меня (звернися до мене),
И помни, что куда бы ты ни стрелял
(пам'ятай, коли будешь стріляти),
у тебя под прицелом будет моя земля
(перед тобою будуть зморщені хати),
у тебя под прицелом буду я — растрёпанная,
с чёрным от боли лицом, как эта земля
(пам'ятай, моє сонце, коли ти стрілятимеш,
бо стрілятимеш в мене, куди б не стріляв).
Потому что я — эта земля и её терриконы,
и её шахтёры, взявшиеся за оружие.
(пару хвилин зачекай,
а потім все одно,
все одно стрілятимеш в мене, друже)».
***
Это она, её стихи.
Давайте я сразу выложу все карты, чтоб никаких театральных пауз не делать.
Анна Долгарева — поэтесса, родом с Украины, но последнее время жила в России, работала там, обживалась как-то.
Выпустила книжку стихов, ездила время от времени по России — выступала как поэт, имела свою толику успеха и узнаваемости.
У неё был парень, она его любила.
Когда началась война, парень пошёл в ополчение воевать. И его убили.
Она бросила всю свою прежнюю жизнь и переехала на войну.
И с тех пор она на войне.
Я знаю несколько аномальных историй, связанных с чем-то подобным: люди бросают свою жизнь, рвут все связи и оказываются в Донбассе.
Чаще всего это мужчины, но несколько женщин я тоже знаю.
Но только одна из них — прекрасный поэт. Это Аня. Стихи здесь будут только её. Они тоже часть рассказа. На самом деле куда более важные, чем все остальные слова.
***
встречаются осенью, детскую площадку заметают листья,
со временем выцветает смех, и глаза, и лица,
узнают друг друга не сразу,
настороженно курят,
переглядываются, словно враги.
при жизни не протянули бы друг другу руки,
но теперь они на другом берегу реки,
и текут облака, и ревут быки.
сколько лет дружили они и сколько лет воевали,
под осколками мин, под дождём из стали,
сколько лет до того дружили,
покуда жили,
а не из последних сил выживали.
вот стоят они на детской площадке, как стайка детей,
на другом берегу реки, на перекрёстке путей,
и кто-то говорит: «а помните, мы здесь были
вот в таком же холодном, пронзительном октябре,
и звенящий воздух, затянутый нитками пыли,
розовел, как живой, на заре».
и тишина проходит, лопается печать,
и начинают они говорить и звучать,
и смеяться, и вспоминать былое, и совсем не говорить про войну,
словно это братство так и было единым,
и летят листки по теням их длинным,
и вода течёт сквозь лёгкую пелену
вечернего тумана, сквозь сияние и тишину.
раздвигаю пальцами воздух, ни пятнышка не найду.
«а помните, ребята, в одиннадцатом году…
а помните, в лес выбирались, а помните, как…»
вдалеке ревут быки, замыкается круг.
дай мне сигарету, мой старый враг,
дай мне сигарету, мой старый друг.
***
Наверное, такие вещи нельзя говорить, но я скажу.
Поэзия способна оправдать многое. Поэзия, смею наивно надеяться я, один из самых лучших адвокатов на любом Страшном суде.
Ну ладно, если не на Божественном, то уж точно — на человеческом.
Если о времени сложены стихи и песни, если время породило эпос — значит, оно удалось, оно останется, его запомнят. Даже если посреди этого времени выросла, как самый страшный сорняк, война, тем более гражданская.
К примеру, про советскую власть, красноармейцев и красные знамёна очень много хороших стихов, и как бы мы к той власти ни относились, она всегда будет реабилитироваться если не напрямую, то контрабандой через Блока, Маяковского, Есенина, Багрицкого и Луговского. Мальчишка новых времён зацепится за поэтическую строку, словно рубахой за гвоздь на заборе, и зависнет в тех временах, и неизбежно начнёт о них ностальгировать.
А про постсоветскую «демократию» хороших стихов нет, и об этом времени будут думать и помнить только те, кому там было хорошо. Остальным там делать нечего и цепляться не за что.
Когда начиналась вся эта история на Майдане и затем в Крыму, я меньше всего об этом думал. Но когда с той стороны зазвучала песня «Никогда мы не станем братьями», пришлось задуматься.
Хорошая новость, на мой пристрастный вкус, в том, что замайданная сторона любит не просто пафос, а пошлый, дурно срифмованный пафос. Видеть себя и только себя в качестве жертвы, расцарапать себе лицо и на камеру произносить страстные монологи в духе древнегреческого театра, только не очень умные.
Когда Россия бомбила Чечню, здесь никому в голову не приходило складывать стишки про ваххабитов и хором, по ролям, их читать. Я испытываю по этому поводу некоторое уважение к своему народу.
Не самые хорошие новости в том, что люди Донбасса (или, если угодно, Новороссии) пока не написали о себе так, чтоб это можно было занести на скрижали.
Первое слово здесь сказала Анна. Аня.
Это было слово ломкое и женское. Но очень важное и сильное.
***
В гильзу от АГС помещается 20 грамм
в данном случае — виски. Мы пьём без звона,
ветер с востока хлопает дверью балкона.
Пьём за тех, кто более не придёт к нам.
Пьём за любовь, за свою мирную жизнь,
за наше большое будущее, поскольку все мы
относительно молоды; неубедительнейшим «держись»
пытаемся поддержать друг друга на время.
Сентябрь начался, с востока идёт гроза,
молчат миномёты, автоматы притихли даже.
Один комроты, смотря на меня, сказал,
что мечтает увидеть женщину не в камуфляже.
Здесь земля отверженных, нам уже от неё не деться,
ветер степной пахнет смертью, мятой и мёдом.
Мы пьём за любовь, за правду, за счастливое детство,
пьём, не чокаясь, из гильз от гранатомёта.
***
— Ты родилась в Харькове...
— ...в 1988 году. И в Харькове выросла. Родители у меня оседлые люди — они даже сейчас не хотят оттуда уезжать.
— У вас такая русская советская семья, родители — интеллигенция?
— Ну да — инженеры.
— Когда ты росла, там уже было что-то специфически украинское в Харькове?
— Было. Учебники у нас были.
— Истории, имеется в виду?
— Истории и украинской литературы… Они создавали когнитивный диссонанс. Например, в учебнике истории могло быть написано, что Богдан Хмельницкий лучший сын украинского народа, потому что он нас освободил от гнёта поляков. Одновременно в учебнике украинской литературы писали, что Богдан — это зрада, предательство, потому что он нас присоединил к России.
— А в домашней среде, на улицах, были какие-то разговоры на эту тему?
— Нет. Люди старшего поколения — все были нормальные. И учителя, и мои знакомые, и родители.
— А одноклассники?
— Нужно сказать, что я была в школе, как бы это сказать... социофобом. С одноклассниками мы начали ругаться, когда началось всё это: УПА, Бандера и так далее. А потом случился «оранжевый майдан», и многие у нас надели оранжевые ленточки.
— Многие — это как? Три человека в классе или половина класса?
— Человека три, но они были очень активные, поэтому казалось, что их очень много. Они были меньшинством, но у них была выраженная гражданская позиция.
— То, что сегодня говорят о себе самые заядлые украинофилы — о своей литературе, о своей истории — как ты это расцениваешь?
— С украинской культурой я знакома, наверное, лучше, чем многие, кто про неё пишет. Украинская культура есть, и местами она очень неплоха. Та же Лина Костенко, вне зависимости от её политических убеждений, прекрасный поэт. Украинские народные песни мне очень нравятся, есть хорошая литература, преимущественно XX века. Можно меня сейчас закидать камнями, но Василь Барка — ярый русофоб и антисталинист — писал с литературной точки зрения очень неплохо. Из поэтов — Микола Хвылевой, Сосюра, Малышко — замечательные поэты. А Лина Костенко просто моя любовь.
— Ты по-украински говоришь?
— Да, свободно... Только устала от него. Наверное, потому, что мне его слишком активно навязывали. Когда я приезжала в Россию, ещё живя на Украине, мне очень нравилось, что вокруг русский язык, надписи на русском языке, вывески. К украинским надписям тоже привыкла, но русские лучше, как оказалось. Читать на украинском тоже свободно могу. Но сказать, что украинская культура в чём-то круче русской — это будет очень большой ложью. И это не оттого, что Украина меньше России. Франция тоже меньше России. Просто у Украины истории толком нет. Вся её история заключается в том, что она была под тем-то и под тем-то... Но я категорически не согласна с утверждением, что в силу этого самой Украины нет. По факту мы её имеем. Давайте уже с этим что-то делать. А пытаться делать вид, что её не существует, нелепо.
***
Аня заказала себе мохито. Безалкогольный.
Ну и я за компанию с ней решил это выпить. Никогда в жизни не пробовал этого напитка.
На улице стояла ужасная жара, как в одной старой песне.
— Ты была единственным ребёнком в семье?
— У меня ещё братец есть. Причём вот он — яростный украинский националист.
— А сколько ему лет?
— 21 год.
— Он же русский.
— Технически да, но он говорит, что раз он родился на Украине, значит, он украинец.
— А что, как ты выражаешься, «технически» происходит с людьми, раз у них случается такая перезагрузка программы?
— Во-первых, школа. Во-вторых, насколько я понимаю, у них там какая-то особая тусовка — я не очень в это вникала, но он очень интересуется бодибилдингом... Но я этой среды не знаю, я уехала из Харькова, когда он был ещё достаточно мелким.
— То есть вы ещё не успели с ним сдружиться, о чём-то поспорить?
— Да, всё же разница 7 лет.
— И ты с ним не общалась больше? Не звонила, не спрашивала, что с тобой стряслось, брат?
— Мы поссорились не из-за политики, а... он действительно очень хамоватый ребёнок вырос.
— А у родителей как с ним отношения?
— Родители к этому относятся так, что это, конечно, дурак, но это же наш сын.
— Он никуда не ездил воевать? Он просто бродит и кричит кричалки?
— Нет, он даже не кричит кричалки. Он больше в инете воюет. Какое-то время я ещё думала, что можно с ним помириться, но когда после Одессы я увидела его пост про «жареных колорадов», я подумала, что всё.
— Слушай, давай ещё раз проговорим. Я не понимаю, как юноше можно отказаться от принадлежности к огромной стране, к своему народу, который побеждал на протяжении почти тысячи лет, и вместо этого присоединиться к народу хоть и красивому, задорному, даровитому, но, давай называть вещи своими именами, региональному. К тому же придумавшему очень увлекательную, но, к сожалению, крайне неправдоподобную собственную историю. Я понимаю, если человек реально украинец и он думает: малый народ, да свой. Это стоит уважать. Но когда русский человек меняет свой код... Кажется, молодые люди хотят быть причастным к чему-то, что ли, более сильному, более надёжному?
— То, что они хотят прислониться к сильному, как раз и было той причиной, по которой у них поплыли мозги. Дело в том, что «майдан» шёл путём маленьких побед. Сначала там объявились какие-то люди, говорившие что-то про евроинтеграцию, следом побили студентов. Потом они собрались и увидели, что они сильны и могут на что-то влиять, потому что власть всё время шла на какие-то уступки — шаг вперёд и два назад. Они увидели, что если ещё чуть-чуть поднажать, то они смогут чего-то добиться. В итоге это привело к тому, что уже в феврале «майдан» без большой крови уже было не разогнать. А когда «майдан» победил, они решили, что они могут называть себя сильными и ассоциировать себя с победителями. Если ты ассоциируешь себя с «майданом», ты ассоциируешь себя с победителями.
— Логика правильная, но только если начинать отсчёт с «майдана». Но ведь это раньше началось.
— Тогда всё-таки школа, потому что там все 10 лет их обрабатывали. И это действует на внушаемых подростков. В них уже сидит это знание, что Украина на самом деле прекрасна и крута. Плюс когда мы учились, Россия была довольно слабая — ельцинская Россия, которая умудрилась промотать то, что было у Советского Союза. И в России было плохо, и у нас здесь было плохо. Да, был сильный Советский Союз, но он кончился — и это прошлое; логично на прошлое не ориентироваться.
— Из текущей ситуации ты можешь сказать, что твой брат, и многие его сверстники, и те, кто постарше, могут измениться? В силу собственных неудач или в силу того, что, к примеру, Россия будет выглядеть объективно лучше?
— Они — нет. Их дети — да. Отказываться от того, во что вложено столько эмоционального ресурса, они не станут. Это всё равно что для них отказаться от самоидентичности. «Если я столько времени вкладывался в неправое дело, значит, я очень плохой? Невозможно». Это чисто психологическая штука.
Мы некоторое время молчим.
— Как ты к ним относишься? — спрашиваю.
— Я не хочу ненавидеть. Потому что если начнёшь ненавидеть, скатишься туда же, где и они сейчас. Потеряешь способность адекватно оценивать ситуацию и ничем от них отличаться не будешь. Мне скорее кажется, что это война идей не на уровне «великая страна» против «не великой страны», а на уровне людей, которые способны трезво мыслить, против людей, которые одурманены. Одурманены ненавистью.
***
Откуда-то в кафе появился человек с гитарой, местный музыкант, и начал наигрывать что-то невыносимо лирическое.
— Пойдём-ка на веранду, — предложил я. — Заодно покурим.
Мы расположились на тихо вскипающей улице. Нам принесли мохито.
— Когда я окончила институт, я уехала в Киев, потому что была очень домашней девочкой и мне было страшно вот так сразу переезжать, например, в Питер. Я училась на химфаке, причём абсолютно не по прикладной специальности — квантовая химия. И думала, что буду наукой заниматься. Но у меня напрочь отсутствовали способности к тому, чтоб пробиваться в жизни. А в Киев меня как раз звали в аспирантуру — и я поехала туда. И мне очень повезло, потому что в аспирантуру я не поступила. На тот момент как раз вышла игра World of Tanks — я начала в неё играть и не смогла поступить.
— Ты так увлеклась компьютерной игрой, что не смогла поступить в аспирантуру?!
— Да.
— Стрелялка?
— Ну да, танки.
(Пауза. Я даже вытащил себе ещё сигарету. И Аню угостил).
— И что ты там делала, в Киеве?
— Прожила там три года, работала журналистом. Сейчас смотрю, что пишет моя бывшая редакторша из «Бюро новостей» — она даже не за Порошенко, а прямо за «Правый сектор»*. А так это было очень хорошее, годное издание, настолько годное, что я только спустя год работы узнала, что оно принадлежит Яценюку. То есть до этого я не знала, и нам разрешали там писать всё что хочешь. Я там работала с Виктором Трегубовым — это был мой хороший друг, и даже сейчас мы остались хорошими приятелями.
— Это какой-то замайданный журналист?
— Да. Например, Виктор писал яростно статьи евроинтеграционные, я писала яростно за Таможенный союз, и никого это не парило, главное, чтобы это было хорошо написано. Поэтому меня всё устраивало.
***
Когда смотришь на Аню… верней, даже так: когда говоришь с людьми, угодившими на войну, и расспрашиваешь их о прошлой жизни, всё последующее кажется совершенно невозможным.
Ну, вот человек родился. Ну, вот человек учился. Дальше работал. В танчики играл. Аспирантуру пропустил.
Всё время ждёшь, что будет какая-то тропка вбок и человек не увидит смерти, не узнает смерти, не привыкнет к ней.
Потому что война, это же, как все мы знаем, не про женщин. Более того, это вообще не про людей. Это про какое-то кино. В лучшем случае, про историю: было когда-то, но сейчас так никто уже не делает.
Но продолжаешь говорить с человеком и видишь, что время на исходе, а боковой тропки всё нет и нет.
Из Киева она перебралась в Питер. Это было в 2013 году, совсем незадолго до «майдана».
В 2014 году, уже после победы «майдана», но ещё до войны, Аня приехала в гости к своим киевским друзьями. И один из них сказал: если придут русские, мы всех вас убьём. И если ты, Аня, придёшь воевать, мы в тебя тоже выстрелим.
— Это было всерьёз или вы шутили? — переспрашиваю я.
— Это было всерьёз. Мы не ругались, мы даже продолжали дружить. Собственно, это была констатация факта.
— А этот киевский круг, в том числе твой знакомый, — что это за люди по типу? Ну, грубо говоря, они реально украинцы?
— У большинства из них ярко выраженная самоидентификация «я — украинец» возникла уже после «майдана». До этого они не задумывались... До этого мы с тем же товарищем увлекались кельтской культурой и язычеством.
— А на украинском языке он разговаривал хотя бы?
— Киев в принципе весь русскоязычный был. В 2014 году я заметила, что в маршрутке чаще слышно украинский язык, но знакомые, в том числе и замайдановские, говорили на русском. И говорят на нём до сих пор.
***
Я, наконец, спросил Аню про её любимого. Про парня, которого убили. Кто он был, откуда.
— Лёшка мой? — переспросила Аня быстро, как про живого и очень родного человека.
Что-то по-хорошему деревенское было в этом её «Лёшка мой?».
Я кивнул: да, он.
Аня быстро, чуть близоруко посмотрела по сторонам, словно где-то рядом была подсказка.
— Нет, он тоже со сложной географией, — сказала она, собравшись. — Он сын военного, вырос в Одессе. Когда мы познакомились, он жил в Днепропетровске. Перед отъездом в Питер я некоторое время гостила у родителей в Харькове. А Харьков и Днепропетровск рядом находятся, и мы с ним… активно общались. У нас всё как-то глупо получилось, потому что встретились два человека с очень заниженной самооценкой. Я к тому же была после тяжёлого романа, в ходе которого меня активно убеждали, что я никто и звать меня никак. И мне было очень сложно поверить, что такой красивый и умный мальчик всерьёз ко мне потянулся.
— Он молодой парень тоже? — спросил я почему-то в настоящем времени.
— Мой ровесник, с 88 года.
— И тоже русский?
— Русский, русский. И убеждённый коммунист. Он за коммунизм пошёл воевать.
***
на линии фронта мужчина в тельняшке рваной
называл святой меня, обещал не отречься вовеки,
а у меня за спиной была пара десятков романов,
а у меня за спиной текли алкогольные реки,
незнакомые лица, чужие похмельные утра,
нескончаемый стрекозиный танец от марта до марта,
ну какая из меня святая, я странник на лодке утлой,
испытывающий на прочность границы карты.
изменилось всё на последнем из этих романов.
я купила крем от морщин, потому что захотела жить долго,
жить банально, но счастливо, это было больно и странно,
как в пустой квартире подарок найти под ёлкой.
не случилось, конечно, не сберегла, такие,
как я, не умеют, чтоб их молитва кого-то спасала.
я впервые тогда захотела жить и впервые —
после всего — вообще хотеть перестала.
не хотела вина и мужчин, вообще не хотела,
крем от морщин я выбросила, не пригодилось,
и спустилась в ад, и не чуяла больше тело,
ни жару не чувствовала, ни сырость.
но такие, как я, никогда не доходят до рая,
и поэтому, в ад спустившись, в аду осталась.
ну а ты говоришь святая, ну какая тебе святая,
обычная баба, просто очень, очень устала.
https://russian.rt.com/trend/310878-pisma-iz-donbassa
Показано с 1 по 1 из 1
Комбинированный просмотр
-
Местный

- Регистрация
- 03.10.2012
- Сообщений
- 6,508
- Сказал(а) спасибо
- 78
- Поблагодарили 212 раз(а) в сообщениях
Захар Прилепин. Письма из Донбасса. Письмо второе. Анна.
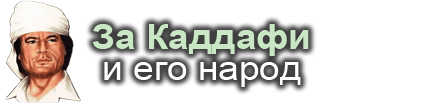

 LinkBack URL
LinkBack URL About LinkBacks
About LinkBacks




 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием